«Поэзия — тайная сестра религии».
Александр Блок.
Жизнь Зои и Дурендия была наполнена той самой скукой, которая часто бывает в кино на экране, и которая, как правило, — не лечится.
Ее муж был членом клуба «Три П» — «Третья персона», он — свинговал, и часто меняя Зою на одну или несколько ночей на другую женщину или женщин, иногда к тому же добавляя ее к ним во время пламенной страсти, то есть, пользуясь модным московским словом – «зажигал». Свинг был его идеологией и образом жизни, и он считал себя скорее человеком искусства, нежели мачо — самцом.
Супруги встречаются и меняются мужьями и женами! Вот где прогресс. А началось все, как всегда, с Калифорнии.
При этом Дурендий часто ссылался на жизнеописания римских императоров, спавших во всех мыслимых и немыслимых комбинациях не только со всеми лицами всех полов и возраста, а также со своими кровными родственниками — сестрами и матерями. Надо сказать. что сам институт брака привлекал его мало, изначально, и он иногда даже подумывал о разводе. Сам он тоже часто становился «третьим» в какой-либо паре или семье — по обоюдной, так сказать, договоренности — на вечер или больше. Номер его аськи всегда был вывешен на специальных электронных досках объявлений на любовных сайтах, частных компьютерных страницах, службах знакомств и блогов старых знакомых. При этом паролем для вызова Дурендия служила всего-навсего простая фраза: «Нужен третий.»
Москва и есть Третий Рим, говорил тогда он, отвечая на звонок. Дурендий был строен, высок — косая сажень в плечах — и нравился всем женщинам,от пятнадцати до пятидесяти, так что хобби и привычка, вещи разные, но в данном случае совпадающие, у нашего героя были впечатляющего объёма, как и мужская гордость, в неделю Дурендий обычно менял до ста женщин, или — хотя бы! — девяносто. На эти развлечения он, конечно, тратил все свои силы и время, остававшееся от нелегкой работы парковщиком машин у большого странного супермаркета, имя которого приводить здесь не имеет никакого смысла, совершенно никакого. Скажем только, что магазин этот был открыт на паях с московской налоговой полицией точно таким же западным свингером, умершим в прошлом году в Малаге от СПИДА. Cмерть, как говорится, от наслаждений. Устав, Дурендий ехал на рынок и покупал сметану, кашкарский изюм и курагу, как он говорил, для стенда.
Но к духовному освобождению, к которому Дурендий стремился со своих половозрелых пятнадцати лет, его это не приводило. И поэтому в глазах его родителей, которые, к сожалению, знали об этом увлечении своего сына, все было бессмысленной тратой средств, времени и сил, всё ещё у Дурендия, как ни странно, остававшихся. Его жена Зоя соглашалась на эти обмены мужа по состраданию, так как любила его всей душой и жалела. Она знала также, что Дурендий гордился этой своей способностью мгновенно начинать бурные любовные отношения с любой персоной противоположного пола, как и рейтинговым числом самих встреч. Котировался он в московских свинг-клубах весбма высоко.
Впрочем, делал он это всё в максимально пастельных тонах, как у имажинистов, и если Зоя не хотела ехать с ним куда-нибудь, то она не ехала, он ее не заставлял. Как можно заставлять женщину, часто говорил Дурендий, тем более в любви? В любви нужна свобода. Нет, он качал головой, решительно — нельзя. Тогда он трудился сам, заставляя своих партнёрш кричать громким первобытным криком, забывая и его, и себя, и сходить с ума. Выжимая из себя, как из мокрого половика, весь свой сок, белую бодхичитту, мужскую жидкость, обычно хранящуюся в одной из верхних чакр, Дурендий ощущал свою миссию свингера значимой, конкретной и хотел продолжить. Я познаю Пустоту, думал он, жертвуя женщинам всего себя. Мне нужен гарем! Потом, конечно, была икра — лучший афродизиак всех времён и народов, свежевыжатые соки для восстановления потенции и, как я писал, курага. Гарема Дурендий себе так и не сделал, все эти Ляли, Маши, Лены и Анджелы находили его сами, так же как и их согласные на всё ради своих любимых мужья. Один, правда, как-то спросил его — если ты буддист, и все женщины в бесчисленных перерождениях были твоими матерями, как ты можешь спать со всеми с ними? Дурендий только отмахнулся: они были и женами. И заставил Зою продемонстрировать этому мужчине это. Как-то раз его чуть-чуть не зарезал одни случайно попавший в их круг вор в законе, грузин, с которым Дурендий ошибочно решил свести деловую дружбу, но дело кончилось стотысячным штрафом в долларах за то, что Дурендий с его женой переспал, который тут же внёс друг Дурендия иностранец, хозяин этого шоппинового центра, который умер. При этом необходимо сказать, что ориентация активного участника столичных свинг-сейшенов была строго гетеросексуальной, без вариантов, это точно. Это надо сказать, а то нет дыма без огня.
Зоя знала, если бы Дурендий изменил ей всерьёз, у него на заднем месте тут же бы расцвели цветы из бардовых синяков от её ремня, она иногда его била: кусалась, хлестала по щекам. Он это знал. Дурендий ей и не изменял, а просто был несомненным и жёстким участником этого полу легального движения свингеров, так сказать, по факту. Свинг он любил с детства, которое провёл с родителями-дипломатами в Калифорнии, и там, прочитав в тинэйджеровском возрасте на английском языке все доступные ему пособия по сексу — «Как быть ее мужчиной», «Как быть его женщиной» — стал считать, что женщин всегда должно быть много, и — желательно! — одновременно. Высшее и тончайшее наслаждение. Сам он, надо повторить, был невероятной красоты: высокий, почти два метра ростом брюнет с большими черными испанскими глазами, почти синей от черноты шевелюрой и римским профилем, обладая так называемым фиксированным взглядом, который столь любит слабый-сильный пол. Завершала картину модная небритость, трехдневная щетина. Он был похож на Аль-Капоне и Арнольда Шварценеггера одновременно. И так и держался в клубах.
Зоя же, наоборот, была миниатюрной — стройной, как лань, и такой же чувственной, дань матери-ассирийке. Она как будто сошла с персидской миниатюры, боялась ветра, холода, жары, дождя и грома, и когда шла по улице, вокруг нее сам собой распространялся запах миндаля, как из только что приготовленного марципанового желе. «Ты моя Амаретто-ди-Саронно!» — нежно звал её Дурендий. Однако стойкая северная бирюзовость глаз Зои всегда строго напоминала ему о нордическом Северном море, где когда-то жили ее предки с отцовской стороны. И характер у нее был отнюдь не женский. В душе Зоя была дочерью викингов, и, возможно, берсерков, и, невзирая на внешний вид, могла быть к мужчинам очень строгой. И была, секс считая за спорт. Дурендий боялся её, но скрывал, умело и расторопно: умереть от ее руки, будучи зарубленным ночью топором, и попасть в Валгаллу он не хотел, так же, он предпочитал этому различные части загорелого и ароматного женского тела, или тел. И держал.
В свободное о работы, а, главное, от свинга время они часто они сидели у своих хороших знакомых в маленьком желтом баре на Неглинке, в глубине от дорог, в основном во время перерыва, в неклиентное время, и смотрели в сторону друг от друга, она – чуть ближе к выходу, он чуть дальше. В такие их минуты друг-бармен обычно часто уходил, не хотел мешать, оставляя им полностью эту, как у Оруэлла, двухминутку ненависти. Мыслепреступления в этом не было, так же, как и его состава, а злость была. Вернее, страдание. От того, что все сложилось именно так — не брак, а свинг. Рефлексируя на этом, Дурендий усмехался. Как там?
«Мыслепреступление не влечет за собой смерть: мыслепреступление есть смерть. ВОЙНА – ЭТО МИР. СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО. НЕЗНАНИЕ – ЭТО СИЛА.»
Так писал Оруэлл? Вот они сидели и молчали — все уже было неоднократно сказано. И вот однажды…
***
Это был один из тех дней, в который понедельник соседствует с пятницей, четверг – с воскресеньем, солнце сопутствует дождю, а удача — слабым и с депрессией. Час дня был полностью импрессионистский, как и сам этот ливень, заливавший всю Москву сверху донизу большой прозрачной серой стеной, в которой было совершенно неясно, где выход, а где вход. И когда. Этот дождь был, собственно, неким Дао. Которое в Москве, конечно, никто не понимал. Как-то один солнцевский бандит пытался кому-то сказать про это, но его тут же убрали. Разумеется, свои. Больше эту тему никто не поднимал.
Старик, вошедший в пустой, светлый, трезвый и поэтому скучный бар на вид был южным евреем, сефардом, а в руке он держал большую кожаную книгу. Возможно, это была та самая книга, как знать, «Книга сумерек», библия дакинь, защищающих буддизм ведьм-демониц, которую голландский ученый мейстер Ван Йоп пытался привезти в восемнадцатом веке в Европу и за которую отдал жизнь. Но вряд ли — настоящей «Библии» сейчас нет даже в государственных архивах, только то, что когда-то собрал Константин-император, не то, что этой книги.
Она была откровенно кожаной, вся, включая страницы и переплет, только переплет, как это и положено старинному фолианту, был из кожи потверже и обрамлен темным от времени и, видно, пролитой на нее или из-за нее крови, красным золотом и резьбой из слоновой кости, сильно пожелтевшей от лет и мук. Страницы книги были помяты и зачитаны, это было заметно по её пухлому виду, новые книги так никогда не топорщатся, странно не соответствуя строгому облику старика.
По книге, естественно, стекала вода, которая, впрочем, не причинив ей абсолютно никакого вреда, сразу же залила почти все занятое стариком место. Болотного цвета старомодный плащ с ремнями, завязанными словно узлы в пустоте, на суровом госте был почти новым, как и легко перекинутый через плечо такого же цвета, тоже со странными ремнями, рюкзак. И чуткая к переменам Зоя сразу заметила, как старик ими гордится. Видно, денег у него немного совсем, подумала она. Совсем немного. Старик был необычен и тем ее восхищал.
Сморщенное, похожее на печеное яблоко загорелое лицо незнакомца странно контрастировало с его чистыми, почти детски искренними голубыми глазами, словно младенческими, неподвластными старости, с прозрачными сиреневыми белками и ярким светом, исходившим прямо из его сильно расширенных зрачков. Наверное, он мог видеть в темноте? Так могли улыбаться только святые.
С первого взгляда старику на вид уже было очень много лет, очень много, но его сверх прямая осанка, жилистые руки, гневные скулы, наезжающие на густые и абсолютно седые брови, признак породы, а также весьма высокий рост, почти, как у Дурендия, метра два, свидетельствовали о том, что он вполне может прожить еще столько же. Или даже более. Старик был полностью властен над своей жизнью и смертью, это было очевидно.
Увидев пожилого еврея-сефарда, вошедший в этот момент в зал друг Зои и Дурендия абхазец бармен Вача, чемпион Грузии по всем видам национальной борьбы, все в 80-х занимали сь карате, я боролся, говорил он, кидая своиз обидчиков с уже воткнутыми ими в его спину ножами, хотел было запротестовать, своим наметанным кавказским глазом, видимо, он заметил факт возможного отсутствия у старика денег, но Дурендий знаком — тоже глазами! — остановил его. Так ниндзя узнавали друг друга в толпе, глазами-знаками. Дурендий, несмотря на свою богатырскую комплекцию и взрывной молоканский характер, предки его жили в городе Мары, никто не возвращается в Мары, говорил он, и пользовались личными чашками, разбивая их в случае хотя бы разового употребления другими, пусть даже членами семьи, своей собственной, не был жестоким и единоборствами не владел. Я не сторонником конфликтов, объяснял он все это так, мое оружие презерватив. Конфликтов Дурендий действительно избегал, не то, что дважды судимый Вача, он любил только любовь, и, надо сказать, любовь тоже всегда любила его, но Вачей был, как говорят на Кавказе, кунаком. И, если что, вмешался бы непременно, что Вача ему не разрешал. Если что случится, говорил он, ты встань у стены и стой, мне легче так, под ногами не мешайся. А то придется потом оттуда выносить и тебя.
Бармен-абхазец, подвигав сплющенными на ковре ушами — отчаянный борец! — молча вошёл обратно в своё пространство за барную стойку, которое он считал аналогичным горам, и стал сосредоточенно протирать стаканы — он ждал. Возможно, старик был мастеров какого-либо кунфу, пусть начнет первым. А там поглядим, кто кого. Брошусь в ноги, войду в ближний, все равно коленом он меня не убьет, а там, повалив, как ласка, доберусь до горла. Все равно в боях без правил у всех выигрываю борцы. Дурендию он втайне завидовал, так как, особенно в Москве, своих женщин обычно он себе покупал, в прямом и переносном смысле, Зоя же была для него женой друга, запретным плодом. Домой же он вернуться и жениться на абхазке в силу разного рода правоохранительных обстоятельств он пока не мог и поэтому, признаться, сильно скучал, тоскуя по домашнему сыру и семейной жизни, спокойной и тихой, который в этом столь привлекательном для всех авантюристов огромном городе Москве достать было невозможно, как и хороших помидор. Одноразовых подруг, напротив, было навалом. Но разве это все решало? Все решает в конечном счете мудрость, а ей похвастать Вача не мог. И потому всегда заменяя ее на смелость.
Зоя встала, чарующе улыбнулась, освободила для старика занятое перевернутыми стульями барное пространство и время, и, без смущения взя почтенного гостя за руку, провела его к блестящей стойке из столетнего шотландского каштана, за которым и произошли описываемые ниже события.
Старик аккуратно и по-молодецки резко отряхнул с нового плаща капли дождя кистью большой и очень крепкой смуглой руки, и тоже улыбнулся ей прекрасно сохранившимися белоснежными зубами. Так широко, что в темной комнате бара на мгновение и засияло солнце. Говорят, мы видим солнце и луну потому, что потеряли возможность видеть свой собственный свет, вспомнила какую-то цитату Зоя. Возможно…А, может, их биллиарды, этих самых солнц? Как знать. Мы все живем в одном мире, но каждый видит только свой.
Старик снял свою насквозь промокшую зеленую шляпу, и всем сразу стала видна его сверкающая бритая круглая голова с абсолютно прямым затылком, сразу переходящая в шею, которая была тоже столь короткой, что немедленно перерастала в грудь. Плечи у старика были практически прижаты к острым, поросшим седым пухом, ушам, а седые орлиные брови, густые, как самый засахаренный мед, были сведены вниз, готовые броситься на скулы, как огромные коршуны.
Старик снова оглядел всех, и его глаза приняли ещё более округлую форму. Спокойно смотря куда-то поверх голов в одному ему видимую реальность, он раскрытием ладони остановил приближающегося, чтобы взять заказ, бармена. Вошедший прямо в разгар гневного двухминутного митинга Зои и Дурендия по поводу их странной семейной жизни высокий старец попросил…уксусу. Который загипнотизированный взглядом старика и находящийся дома в розыске бармен тут же, оторопев, как шестерка, принёс. Гость налил его в извлечённый из своего рюкзака синий пластмассовый таз, наподобие тех, в которых моют грудничков, дешёвый, потом вдруг достал из своей кожаной книги сотню позеленевших от времени медных иголок и бросил их в приятно пахнущую импортными яблоками жидкость. «Пейте наш уксус!» — гласила реклама на этикетке на испанском. «И вы будете жить вечно!»
Бурно пробормотав при этом какие-то короткие слова, словно мантру или молитву, старик-сефард бросил иголки в таз и стал полоскать. Затем, повернувшись к Зое и Дурендию и пристально на них смотря, он стал вынимать их из таза, одну за другой. И проглатывать, глотать. Челюсть старика и кадык двигались абсолютно в такт движениям его рук, и через несколько секунд все иголки исчезли.
Потом он также, ни слова не говоря, снял старые, но чистые синий пиджак и бежевую, надетую прямо на сухое бронзовое тело, рубашку, напрягся, и вдохнул. Потом выдохнул. Зоя, бармен и Дурендий готовы были поклясться, что им были видны все поры на коже странного гостя-старика, как чешуя у змеи, и в каждой ромбовидной чешуйке было по одному отверстию, как у дракона. И также, аккуратно, одну за одной вытащил все иголки через отверстия в этих крошечных, но открытых порах, складывая их обратно в тазик. «Пору Бодисаттвы не облетишь и за кальпу», — мелькнула мысль у Дурендия, значит всё — так?.. Он читал, что у святых священные поры, в которых живут другие святые, а также находятся райские страны и города. Так есть горы, реки, моря и земли. И даже другой святой не может облететь по воздуху за огромное количество времени. При этом заядлому свингеру были видны крепкие натренированные сухожилия внезапного гостя. Не мышцы, как у бармена Вачи, от качания огромные и распухшие, заполнявшие как у героев американских комиксов, до предела все его майки я ярлыком «ХХL», Вача даже причесаться нормально не мог, бицепс, смыкаясь с дельтой, мешал завести руку за голову и нащупать шею, а именно такие коричневые крепкие нити, канаты, перевитые лиловыми реками узловатых немного расширенных вен. В животе бармен внезапно ощутил острую боль, тут же захотелось, как перед серьезным поединком, в туалет по маленькому, опорожнить мочевой пузырь, и в бой. Он сжал зубы и стал смотреть дальше.
Между тем старик уже вынул через поры все иглы, и оторопевший Зоя и бармен почти полностью потеряли дар речи. В воздухе можно было повесить топор тишины, вернее, небольшой томагавк, как созвездие, если бы такой существовал.
Старик медленно, словно в соответствии с каким-то старинным ритуалом, посмотрел на них, неторопливо прополоскал все иглы, теперь уже черные от собственной крови, и спрятал их обратно в свой рюкзак. Свет, который должен был, согласно внутреннему распорядку, зажечь в баре Вача пятнадцать минут назад, вспыхнул сам, выключатель никто не трогал. Теперь, в этом свете импортный уксус стал пахнуть сандалом и чем-то ещё, знакомым Зое с детства и неопределимым, то ли мускатом, то ли лавандой. Она осторожно взяла старика за сильно кровоточащий локоть, сняла свою майку, под которой по настоянию мужа никогда не было бюстгальтера, он так хотел, и стала обтирать спину этому высокому чудному старцу, только что показавшим им смертельный фокус. Осторожно и одновременно нежно, собственно внутренне очень этого желая.
Эту итальянскую майку Дурендий подарил ей после какого-то особенно удачного ночного обмена сразу трёх пар, когда, она уже не помнила, помнила, как, но не хотела вспоминать, она еле ушла оттуда. Она вообще не хотела вспоминать ничего-ничего, смотря то на почерневший от крови таз, то на ошалевшего от произошедшего Вачу, то на старика, который во время всей своей демонстрации не издал ни звука. И не представился, конечно. А только смотрел на всех ясными голубыми глазами, которые бывают у детей до трех лет, и в которых виден мировой океан своей добродетели. Не такой, как в заграничных поездках к югу, а мыслящий, как в произведениях Станислава Лема, Зоя продолжала зачитываться этим польским писателем до сих пор. Ей казалось, сознание этого океана сейчас вновь остановилось на ней и Дурендии, и он как бы вспомнил, зачем влился сюда к ним в бар. Вместе с дождем.
— Я не знаю, как тебя зовут, мой господин, — сказал странный гость, голос его был подобен его нервам, этим канатам, сухой и скрипучий,- но знаю те услуги, что ты оказываешь богатым дамам.
Кровь бросилась Дурендию в голову:
— Богаты и не очень, я это делаю не за деньги! Я четко вижу суету городского мира и ворох ошибочных иллюзий. И целиком погружаюсь в несравненное лоно правды!
…- Чем я тебе не нравлюсь! — Ее брови, казалось, хотели выстрелить ему в лицо. -Динамишь меня уже третий раз! Третий раз я тебя ужинать приглашаю! Ты, что, охамел?! — Ну, — ответил он, — я совсем не динамлю, у тебя прекрасные пальцы ног. Но…Понимаешь, мне в женщине нужна, как сказать, это…что-ли страсть. Вот так. -Страсти он захотел! — сказала она. — Подонок, фашист, сука! Эй! Таксист!Разворачивай машину! Прямо через осевую! В Беляево в общежитие! Я тебе такую страсть там покажу, усрешься совсем! Всю ночь трахать буду!..
— Дамам и господам, — не обратив внимания на то, что его перебили, продолжил старик, — жертвуя собой и другими тоже.
Бармен Вача сильно закачал головой. Гость прав, на Кавказе старших перебивать — дурной тон. Плюс он, к тому же, — гость.
— Собственно, желаяюобменять себя на других, — сказал Дурендий. — Помочь всем женщинам, дать им счастья.
— Внимательно выслушай меня, о, достойный! До прихода сюда я увидел твое лицо в пузырьке на поверхности своей чашки. Потому и решил прийти сюда. — Взглядом старик почти обнял нашего героя. Как кожура кунжута обнимает зерно. — Недостойный, немудрый и старый, я должен предостеречь тебя от ошибки, которой следуешь ты и все, кто с тобой рядом, — старик показал ладонью в сторону напрягшегося от ожидания кавказца, — например, он…Ибо грех всё покрывает, и всех, достаточно просто сесть с согрешившим за один стол. Как капля дегтя, поапвшая в находящийся в бочке мед. Как только кровь засохнет, я возвращусь туда, откуда пришел, тебе туда нельзя, поэтому внимательно слушай. Взаимоотношения полов на самом деле есть великая благодать, данная нам Небом и Землей и не должна нарушаться от случайности. Это можно охарактеризовать, как бой часов на каменной башне, которые бьют ровно во столько, во сколько необходимо. И любое нарушение здесь подобно конфликту с самим собой, а себя предавать нельзя, это грех самый страшный.
— Как смерть? — по-женски поспешила вставить в разговор слово Зоя, не вставить она не могла. — Смерти боятся не надо, дедушка, у всех придет этот день, мы не знаем точно, когда, но в этот день надо быть здоровым!
— Именно. — Старик знал, что она скажет, он знал. — Страшно и нелепо конфликтовать с той внутренней правдой, что скрыта у всех у нас глубоко внутри, и которую мы, — он обвёл широким жестом всех трёх слушающих, — сколько ни стараемся, никак не можем обнаружить.
При этом уже почти застывшая капелька крови, слетев с его руки, попала Зое на акупунктурную точку между носом и верхней губой, точно туда, и она ощутила прилив радости. Почти сексуальной. Зоя, помедлив, все же смахнула её рукой на пол, слизнув оставшееся крохотное тёмное пятнышко. На вкус кровь была не солёной, а сладкой. Как нектар.
— То же относится и к запланированным или случайным встречам, как вы, европейцы, любите говорить, на стороне, — заметив этот её жест и впервые улыбнувшись за всё время, продолжал мессия. — Блаженные не наблюдают времени, и им не нужна смена женщин или мужчин, их счастье происходит само собой, так что в сфере святых нет мужей и жен. Объяснение, которое тебе так необходимо, содержится в этой книге.
Это он о том, снова пронеслось у Дурендия в голове, что у бога нет человеческих имён? Так? Нет разделения на хорошее и плохое в Основе? Типа — Основа всех познаваемых вещей наполняет все миры и существ? Сущность ее не составлена из частей, бытие — пустое и светоносное естественное состояние, она не знает заблуждения вначале и вне освобождения в конце? А ум имеет природу слогов, а слоги это всеисполняющие облака драгоценностей?
Словно прочитав его мысль, старик молча подошел к Дурендию и отдал ему намоченный дождем фолиант. Нужная страница была заложена взятым снизу в серебряную оправу акульим зубом, от которого исходил теперь почему-то ясно видимый для Дурендия — тонкая зеленая струя — аромат кашгарского изюма. Бармен Вача этот изюм не ел, он предпочитал кашгарский план, где Кашгар, там и он. Богата планом страна родная, говорил он, земля родная, Таджикистан, давай пыхнем. Много, впрочем, не употреблял, следил за здоровьем, се-таки — бои без правил. На этих боях Вача, бывало, зарабатывал за один раз столько, сколько за год в баре. Эх, вернуть бы его 91-й, когда вся Москва была у него в руке на ладони, но нет, не вернешь. Что было, то прошло. Да и опять в тюрьму — ну его. Лучше здесь, у барной стойки, стоять, чем там сидеть. Хотя с перерывами можно, это подряд тяжело. И третье — сейчас, если что, влупят-то уже по полной программе, десятку. Нет!
Так же неспешно, старик встал рядом с Зоей и обнял ее за плечи. Вача хотел было сказать ему что-то плохое, но не стал — возраст. Пусть обнимает, ему на вид лет сто или сто пятьдесят, может, это последний раз в жизни, если бы был молодой, оторвал руку. За жену друга.
Ступал старик несколько тяжело, но сильно, и казалось, даже Вача, разогнавшись, как профессиональный боец и толкнув, не смог бы вытолкнуть старика из созданного им самим таинственного круга этого эзотерического сумо, теперь, похоже, уже включавшего всю Москву.
Поняв это, Зоя инстинктивно задрожала: «Она принадлежит старику?!» И плача, уткнулась гостю в середину широкой, теперь уже совсем не кровоточащей груди: капельки крови свернулись в маленькие санскритские буквы, и высокий сефард сам стал напоминать огромную книгу. Дурендий заметил, что кровь собралась у старика в пяти точках — в межбровье, горле, середине груди и плечах, и, также моментально, засохла. Старик был Избранным, Дурендий это знал.
— Эта девушка выбрана, — сказал Дурендию и Ваче старец. — Рано или поздно она станет избранной тоже.
Вача не понял, но виду не показал, он начал уважать старика. А старик положил свой большой треугольный небритый подбородок Зое на макушку, прямо на родничок, в то место, где сходится воображаемая линия от кончиков ушей, если ее хорошо провести свечой или серебряной нитью от подбородка, и удар в которое смертелен даже не подготовленной рукой, Зоя была ровно на голову его ниже. И по-отечески поцеловал, благословил, чуть прикоснувшись губами. Отпустив её, южанин-еврей еще раз подошел к стойке.
— Внимательно оглядись, кто еще пострадал, кроме тебя, уважаемый молодой человек. Кто? При этой твоей, так сказать, попытке страстного просветления?
Старик хотел еще что-то сказать, но, видно, время великого гостя почти истекло. Он вновь повернулся и показал всем израненную спину. Теперь она вся блестела и от кровоточащих отверстий не осталось и следа. Как и букв. Старик выпрямил спину.
— Только так можно добиться того, чего ты намерен, — громко и отчётливо сказал он. — Ешь горькое, Дурендий, все время, глотай иголки. Не стесняйся, горькое лекарство лечит от болезни. Подвижничество, это, Дурендий, не любовь. Это — совершение деяний. А духовность определяется не количеством прочитанных книг, а, в первую очередь, мотивацией.
Зоя со страхом, хорошо зная бармена Вачу — как бы чего не вышло, он очень борзый, говорят, на зоне восемь человек пришли его убивать, он сидел на нарах, скрестив ноги, с бутылкой, потом встал, отбил у нее горлышко и нанес себе несколько порезов на левой руке, предупредил, испугал, видела, что кавказец весь был уже словно выпит стариком ,до конца и не мог ничего ответить. «Я не хочу больше с ним жить, с Дурендием!» — , она поняла. — «И не буду!»
Но мужу было уже совершенно не до нее. Его англо-саксонское воспитание разом исчезло под напором горьких истин, и даже столь любимое им вежливое обычное «спасибо» застряло у Дурендия где-то посередине между гортанью и желудком, не находя пространства для собственно слов.
Опускаясь в снах волшебных в глубины, поднимаясь в выси птицею-лебедь.
И ужасно жалко, это не сын мне за подолом твоим всласть будет бегать.
Одиночество, мечтанье мужчины, получил, готовься жизнью ответить —
Я любил тебя совсем без причины и сейчас всё продолжаю, Джамета!..
Стихи молнией блеснули у него в мозгу. Чужие стихи, своих Дурендий не писал. Может, он в прошлой жизни сам был поэтом? Персидским, как Хофиз? Порвавшим связь со своей Персией, Учителями и поэтому родившимся в треклятой Москве? На улице шел дождь, и звуки стиха смешивались с водой — ом-ом-ом — проникая прямо вглубь его сердца, соответствуя некоей объективной старинной — и высшей! — правоте, лаконично выраженной стариком, возможно, тоже в стихах, которая прямо-таки была видна в облике этого странного деда, могучего и непоколебимого, как Истина. Видно, жизнь свою он прожил досойно и не зря, и вот теперь учил их всех, что такое — и как не боятся — смерти. Дурендий так любил все то, от чего надо было теперь полностью отказаться, и что тут скажешь в ответ? Спасибо, отец, точно не подходило, видимо, дело было вообще не в благодарности, искренней. Поняв это, он просто поклонился, старику, как японец на чайной церемонии, и в один крупный шаг пересёк комнату бара и выключил свет, пользуясь маленьким электронным пультом, который лежал на стойке напротив уже потертого журнала «О моде и кино».
Возможно, старик знал, что он зря теряет время, но он был одним из тех, кто сначала делает, а потом говорит. Он вылил укус себе на грудь, тот задымился и зашипел, старик даже не поморщился, и надел рубашку. Потом он оглядел всех еще раз, накинул плащ, тоже всем поклонился и вышел прямо через дверь, не открывая ее, напрямую. Бармен Вача чуть не упал на пол, Зоя закричала. Дурендий лишь покачал головой. Его карьера покорителя женских сердец с этого момента была закончена. Главное, не сколько, а как, понял он.
Зоя же заметила, что при выходе старика через закрытую дверь, свет влился в свет, странным образом была видна вся подошва его крепких туристических ботинок, похожих на профессиональные для трекинга в гималайских горах, чего она никогда не замечала у других людей. Была видна вся подошва, вся. Она выскочила вслед за стариком, чтобы попрощаться и попросить мобильный, но старик уже был от неё примерно на расстоянии выстрела короткой стрелы.
— Не ешь редьку, — донеслись до Зои слова старика, — редька выносит из тела энергию! И морковь.
Она выскочила из бара, побежала за стариком по московской брусчатке, но великий гуру начал двигаться все быстрей и быстрей, опять теми же ступнями, подошвой, всей, а когда она замедляла шаг, старик, не оглядываясь, замедлял свой. Через некоторое время Зоя совсем выбилась из сил и потеряла его из виду в многолюдной толпе. Она смотрела на старые московские дома с новыми стеклопакетами в элитных окнах и рыдала. Где его искать сейчас?! Как?! Однако, как рыба, кожей, его присутствие в ее жизни она ощущала потом еще очень долго. Сто лет, столько она после этой встречи еще прожила. Половину из них — в отшельничестве.
На следующий день Свет, который она ожидала, в ее душу не пришел, но пришла какая-то странная сладость, любовь, ко всему миру и ко всем, которую она никогда не ощущала раньше ни со своим мужем, ни при столь многочисленных в ее жизни обменах партнерами, ни даже в детские годы, когда за пол куска торта по просьбе матери спала в одной постели с так не любившей ее старшей сестрой. Зоя вернулась домой к маме в Выборг, навсегда. С Дурендием они вскоре развелись по почте, на суд она не пришла, молча, тихо и ясно, а бармен Вача уволился с работы и куда-то уехал, люди говорили, на Алтай, ближе к Шамбале, в благотворительную больницу санитаром, как когда-то часто за стойкой шутил он под мухой со знакомыми и друзьями. Клянусь на этот бар, надоест мне вся эта Москва и криминал, уеду на край земли помогать людям, буду работать за еду и кров, э! Дурендий тихонько добавлял — копить в мысленном континууме позитивные отпечатки.
Иногда Зоя часто вспоминала имя того старика, которое он на прощание прошептал ей на ухо у двери, на Востоке это называется «линией нашептывания». Сказал старик его ей по-русски с ярким южным акцентом, но нет, не восточным, скорее малороссийским, и само слово было ей вполне понятно: «Ку-ма-рад-жи-ва», пять слогов. Так, сказал, его зовут. Что это означало, в баре никто не знал. Дурендий потом звонил ей несколько раз домой, просил помочь ему в каком-то очередном обмене в каком-то питерском клубе, от вас ведь не далеко, сказал он, ну, ляль, не ломайся, трахнешься пару раз с кем я скажу, это ж весело, будет и съемка, клуб даст денег, но на встречу с его контактами она не пошла, как и на работу. Она совершенно перестала курить, пить кофе, есть яйца, рыбу и мясо и села дома, начала учить санскрит. Язык давался ей трудно, но был совсем не мертвый, а очень даже живой. Дурендий же, позднее был избит в Киеве на Крещатике фашистами и тоже все бросил — принял в Киево-Печёрской лавре постриг, он стал черный монах. Я, может, в эмиграции стану средней руки поэтом. Что же со стариком? Ответ Зоя нашла в одной из эзотерических и столь модных в Москве конце 90-х энциклопедий, в разделе об агиографиях, жизнеописаниях различных святых-учителей.
Статья гласила: «Кумараджива (344 или 350—409 или 431?) — знаменитый комментатор и переводчик буддийских книг на китайский язык. Выходец из Восточного Туркестана, учился в Индии у знаменитых буддистов того времени. Также в совершенстве изучил древнеиндийскую литературу, астрономию и математику. В 383—413 жил в Китае, где занимался проповедью буддизма. Его литературное наследство насчитывает несколько сот трудов: переводы на китайский язык буддийских религиозно-философских книг и комментарии к ним, переводы древнеиндийской литературы, оригинальные трактаты по буддизму, биографии древнеиндийских поэтов.буддийский монах, один из четырёх крупнейших переводчиков буддийской литературы на китайский язык, наряду с великими Ань Шигао, Чжэньди и Сюаньцзаном Фа-Ши. По преданию, в 401 году он прибыл в Чанъань, столицу государства Поздняя Цинь, современный город Сиань провинции Шаньси, где провёл последние годы жизни, занимаясь переводческим трудом. По самым скромным сведениям, имел более 3 тысяч учеников. С помощью 800 из них он перевёл на китайский язык более 35 буддийских текстов, в том числе основополагающие памятники Махаяны: «Сутра о Премудрости, переводящей в Запредельное и рассекающей неведение подобно удару громового скипетра», «Великая сутра праджняпарамиты» в 27 свитках, «Сутра лотоса благого закона», «Вималакирти (нирдеша) сутра» — «Сутра о Вималакирти»), «Сутра о будде Амиде», «Рассуждения о срединном видении Пути», и т. д. Поскольку Кумарадживе принадлежат переводы основополагающих трактатов школы Саньлунь, её последователи считают его одним из своих патриархов. Из учеников Кумарадживы наибольшую известность получили так называемые «четверо мудрецов из школы Шэня», или «четыре философа»: Даошэн, Сэнчжао, Даожун и Сэнжун.» Дальше шел отрывое из его труда «Работа с сознанием»:
«Смотреть, где рождается сознание. Основы тела, речи и ума первоначально чисты и не загрязнены. Из этих трех, в конце концов, кто господин?..Тело делает все — оно? Рот произносит хорошее и плохое — он? Ум, определяя, различает все — он ли? В действительности — нет. Тело? Как раб, как дом. Рот — как автоответчик. Главное — сознание, ум тоже получает от него приказы. И дальше как? Где оно живет? Где умирает, рождается? Смотреть внимательно-внимательно. Сознание рождено внутри — а также — снаружи? От живых существ или внешним миром? Землей, водой, ветром, огнем или с помощью глаз, ушей, носа, языка, тела? Отцом и матерь, что дали нам жизнь, или постепенно, по мере взросления? И, смотря так, обнаружим — нет. Не извне, не изнутри, не существами, не миром, не кем-либо другим и не собой, не может быть рождено и нет ничего рожденного, и нету рождения, и нельзя его обрести. Где живет оно, внутри или снаружи? В живом, в материальном? В четырех великих(1) или в пяти корнях(2)? Внимательно, внимательно смотреть. Не живет ни во вне, ни внутри, ни в живом, ни в мире, ни в четырех великих, ни в пяти корнях, нет рожденного ничего, нет того, что может быть рождено, в действительности — нигде и не живет, не возможно ему жить где бы то ни было. Потом смотреть, где исчезает? Мысль — прошла и погасла, и эта мысль и способное погасит ее сознание — уходят куда? Идут наружу или внутрь? В мир, в живое? В Землю или в Небо? Смотреть внимательно-внимательно и обнаружишь: нет того, что уходит, и нет того, кто может уйти(3), то, что уходит и кто может уйти — пусты(4). И невозможно обрести это исчезновение. И когда смотришь так — сознание в действительности не рождено, не исчезает, не приходит и не уходит, у него нет формы и цвета, облика, места, схватить его нельзя, оно беспрепятственно, словно пространство и не состоит из ничего. Исчезает первая мысль, рождается вторая, все это происходит в одно мгновение, в миг исчезает, потом опять рождается и исчезает, а в действительности — это одно сознание, а вовсе не два: мысль прекращается, а сознание — нет, рождается следующая мысль, а сознание — не рождается, это как раз то, о чем говорится в «Сутре Сердца»(5): «Не исчезает, и не рождено.» Все горы, реки, земли, бесчисленное множество форм и образов, все появляются в пространстве. Сознание — подобно пространству, проявиться в нем может все то, что называют недвойственностью формы и пустоты: «Форма есть пустота, пустота есть форма», все появляется взаимозависимо от различных причин и условий, не отлично от пустоты и нет в этом ни малейшей самосущности, сансара и нирвана, аффекты и просветление — все точно таким же образом подобно пространству. В «Сутре сердца» сказано: «Поэтому в пустоте нет формы…Нет страдания, причины страдания, уничтожения страдания и пути, ведущего к прекращению страданий. Нет мудрости, и нет обретения, и нет ничего обретаемого.» И так все далее, все также указывает на сущность пустоты, равностную и без двойственности, и все это необретаемо. Поняв пустоту, только тогда становится возможным достичь непринужденности своих тела речи и ума и освободиться. То о чем говорилось выше, это понятие путоты с помощью трех определений — рождения, присутствия и исчезновения, а также исследования и наблюдения истинного характера сознания. И это есть особая подготовительная практика высшей йоги.»
Зоя дочитала, аккуратно закрыла книгу и закрыла глаза. Потом вышла из дома и купила бутылку самого дорогого уксусу.
Примечания:
(1)Четыре первоэлемента, из которых состоит живая и неживая Вселенная — ветер, вода, огонь, земля; пятый — пространство. Соответственно пять цветов — зеленый, белый, красный, желтый и синий.
(2)Пять органов чувств — глаза, уши, нос, язык, тело; шестой — ум, манас.
(3)То есть, объекта и субъекта действий.
(4)От самосущего существования, взаимозависимы, появляются в результате различных причин и следствий.
(5) Одна из самых коротких сутр Будды, в которой он излагает самую главную сущность своего учения.
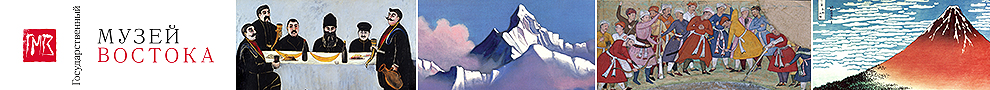


 Рубрики:
Рубрики:  Теги:
Теги: 