«Дождь проницает скрытое, но обходит стороной открытое.
Откройте же тайное и скрытое,чтобы не промочить его…»
«Книга Сумерек»
1
Доктор Ван почти пришел. Деревушка была живописнейшей, синей. А если всмотреться – сиреневой даже. Почти фиолетовой. Как название знаменитой английской рок-группы. Deep Purple. Это из-за бамбука. Тут растёт такой особый фиолетовый бамбук. А восходы, спросите вы? Конечно, зелёные. Как надо. И красные закаты. Поэтому м называются – Красные горы. Тут всё «по канонам Шень-Цзуна» (1).
Ради этого стоило карабкаться столько времени. Да что там карабкаться – кто-то давно проложил каменные ступени, просто поднимать ноги. Шаг здесь, шаг там. Хорошо, что он рано вышел из дому – сначала до полицейского комиссариата, что в облезлом жёлтом, доставшемся от французов колониальном здании, для разрешения на въезд в заповедник,
потом на маршрутку, сейчас они все коммерческие стали, говорят, эту линию откупили корейцы, будь они не ладны, опять демпингуют, а потом, как положено, час сорок по узкой тряской дороге к Красным горам.
На конечной – слезть – там направо Институт переводчиков, таким оазисом в бурлящей и клокочущей деревне, сразу видно – учатся дети богатых, а налево — знаменитая на всю округу лапшевня – двести видов лапши – и немного передохнуть, поесть. Как говорится, идёшь в горы, «заправь живот».
Вот и не зря, выходит, мучился – в городе теперь такой лапши нет, ремнями, как пояс древних воинов в годы Ин-Цзун(2): «…нарезанная сильно и ровно, об стол оббитая сильно, руками над головой растянутая мощно, на пару дошедшая точно, красным перцем приправленная на совесть, тёмным кунжутным маслом политая щедро, белым уксусом сдобренная сильно, снизу – мясо с морковью, сверху – имбирью…» Такую от этих мест за сто тысяч ли(3) не найдёшь. Перемешаешь раз с ослиной печенью, запах вдохнёшь — и дух вон из тела. Минут на двадцать, двадцать пять. И пиала с мутным пахучим отваром из теста взгляд прикует — не оторвёшься.
Потом капнешь туда пару-тройку булек соевого уксуса, палочками подцепишь, голову наклонишь, провернешь два раза, или три, и эту горячую массу, сколько сможешь, втянешь в рот.
Имбирь в нос ударит, уксус прошибёт до центра стопы, соя соленая продерет капитально, до центра ладоней, перец все нутро и годы сожжёт от паха до макушки, и снова — человек. И скинул лет двадцать. И продолжаешь его «делать», человека этого – выдавливать из себя раба, изнурять великими упражнениями, в грозу читать древние книги. И почитать всех, кто старше тебя. И познавать великую тройственность – «Земля, Небо, Человек». И знать, что не зря живёшь, и умрёшь не зря. И не бояться – быть готовым к «белым одеждам», всегда и везде.
А за соседним столом — девочка с черными волосами деревенская, под каре постриженная, молчит, смотрит своими большими чёрными круглыми глазами, размером в один чи(4) прямо в твои, улыбается и молчит, и думаешь – нету у тебя никакой жены, всё это сон, и не было никогда, а есть только южные Красные горы, бирюзовое это небо, как тибетский лазурит, янтарное это солнце, прозрачная эта каноническая лапша и она — белозубая, чернобровая, гибкая, тонкая и смеётся звонко-звонко так, словно фея в горах играет на цине(5) – высоко-высоко, на освобождённой ноте.
И отвар допьешь и протрезвеешь. И всё у тебя есть. А еще — работа и этот вызов, странный. Сказали – «живая язва», не открытая там, не «свежая», или как-там-ещё, а — «жи-ва-я». Так употребили три иероглифа. Ладно, поедем, посмотрим, братишки. Или, вернее, «поглядим».
3
Ван уселся в деревянный короб на трех колесах – два сзади, один перед рикшей, резко и немного даже эмоционально после горячей лапши постучал в прорезь окошка, сунул небритому и взъерошенному водиле – видимо из потерявших в этом году работу, они всюду сейчас — пять юаней, одной купюрой. Тот честно сдал два. Знает – не иностранец, много не возьмёшь. Деньги новые, это хорошо, возможно, будет удача. Есть такая примета.
Это бог знает где. Проедешь Тхайи Гун – место курортное, санаторий, разврат там один – потом до разрушенного цементного завода, заброшенного, где по ночам странные огоньки и какая-то женщина повесилась в прошлом году, но говорят, всё ещё никак не умерла — там еще иногда кино про войну снимают с японцами, сороковые года, так никакие декорации не нужны, и сколько можно — вверх. А потом трехколесник это фанерой оббитый – всё, встанет — уклон не берет. Да, говорят, и джип — тоже – там и дороги-то дальше никакой нет. И вправду сказать, куда там делать дорогу. Только. В правду сказать, в никуда.
И только пешком, вот по этим самым ступенькам. И все время — прямо вверх. Не ошибёшься. Там и людей –то обычно нет — слева обрыв, справа лес, тропа все время только вверх, и лишь иногда встретишь, бывает, какого-нибудь торопливо сбегающего с горы худого загорелого монаха с отрешённым или, наоборот, озабоченным, лицом, или пару-тройку решивших прогуляться влюбленных пар. Либо неверных жён и мужей. Бывают, правда, крестьяне, из местных, но редко — живут они на по западной левой стороне, там, где пропасти врастают в горы, как грибы юньнаньские, и, конечно, не любят ходить взад-вперед – за день и так нагуляешься, что ноги не гнутся – вверх в полу приседе, вниз – согнувшись, чтоб не слететь туда, где ни один черт не соберет костей, что поясницу не разогнёшь. И одно удовольствие – лечь у горной печки сухой, только не перетопить, и набить трубку опиумом, старую, медную, от деда перешедшую, и уйти – прямо в рай, опиумный, где золотые колесницы и Император, что ждёт тебя, своего верного поэта, и читать ему стихи, всю вечность напролёт, и знать, за это Он когда-нибудь заберёт тебя в свой сон, как придёт время. И летать, по миру, никуда из хижины своей прогнившей, протекающей, прокуренной, не выходя, и летать. И не бояться больше чертей, никаких.
С чертями тут всё хорошо, нормально всё. Тут школа одна, на все горы, средняя, Ван в «Вечерней наложнице» прочёл, так вот, начал как-то учитель урок, книгу открыл, а страницы все – чёрно-синие, ни одной буквы не видать и запах красного сандала по всему классу, терпкий, горький, берущий за душу. И что ему дети говорят, не понимает. А что он говорит, не понимаю они, никто. То есть схватывают смысл слов, сначала, а в предложение они не вяжутся, и знаками графическими не записываются, полный ступор и конец. Вот и переспрашивал тридцать раз, почему надо шторы задернуть, потерялся совсем. А было надо – солнце здесь злое, яркое, такое красное, что пости синее, как расплавленная сталь, и с середины мая до середины октября кто с открытой головой пойдет, точно от удара погибнет. Наверху, у самой высокой Красной горы – называется огненная, плюс семьдесят по Цельсию, замеряли американцы, а внизу – всегда плюс пятьдесят. Ночью, правда, хорошо, до сорока, так что, хоть и спишь в поту, но заснуть – можно, а вот днём – никогда. А с середины октября до середины мая – то же самое, только минус – моча замерзает на морозе, до земли не долетев, и когда идёшь по маленькому, рядом обязательно должна быть подруга, иди жена, с маленьким керамическим чайником – лить на ствол, отогревать, если что, а то не закончишь. П лучше – вместе, так вернее. В общем, препятствия одни. Испытание, а не жизнь. Но – живут, и смеются, и рожают детей. В общем, сильные здесь люди, в этих горах. Почти соль земли. То есть, Поднебесной.
Зато сейчас, пока ещё жара не настала, в начале четвёртого месяца, как выйдешь на плато – ну просто какой-то небесный дворец земной. Дорог — ровная, ноги сами несут, по бокам – хризантемы и лилии, вверху, в диких гнёздах – горные орхидеи, внизу – долина, каких мало на свете — малахитовые сосны и белый-белый песок, белее рисовой японской бумаги.
И тишина. А впереди – деревня самая эта. И все чин чином – постоялый двор, ресторация – тоже делают лапшу, только гречневую, не мягкую, проглотить можно только с со специальным зелёным соусом, а заправлять – только белой бараниной, маленький магазинчик в покосившейся каменной избе-сакле, а в нем даже «Marlboro» есть. Отсюда даже были видны шест с метлой под абрикосовыми деревьями(6) и стоящий у входа большой медный котёл, где на разложенном из тех по же сухих и толстых абрикосовых веток на небольшом костре, на медленном пламени томилось жаркое из свежего собачьего мяса.
Нет только этих машин городских, разных и всего прочего цивилизационного хлама, на такой высоте им быть откуда. И, конечно, нет горячей воды. Если честно, вода здесь лучше любой фильтрованной и всякой там модной «Perrier», на вкус она сладкая, на запах ароматная и, когда пьёшь, не отягощает желудок. И лечебная, конечно.
И вода эта лечит душу, ибо, «как выпьешь Ея, это состояние можно представить себе, как состояние ровного океана в сосуде, на который уже ничто не воздействует. Прежде сосуд этот раскачивало, как на ветру рваный флаг, а теперь в о д а устранила все обстоятельства, ввиду которых качался и качался он, и тогда, понемногу, и сосуд, и вода в том самом великом океане сами по себе пришли в спокойное состояние, совершенное, и душевная муть — обсела, и вода, в сосуде нашей души, стала чистой и есмь — прозрачной…»
И вот напьешься её вволю на какой-нибудь горной поляне из стремительного ледяного ручья, присядешь на табуретки эти, любящими вселенную руками сделанные, деревянные, резные, закуришь длинную трубку лиловой горной травы, посмотришь на красное закатное небо, переведешь дух – ну рай он и есть рай, одново. «На небе – рай вечный, а на земли – гор бесконечный». Так и есть. Сосны, песок, туман, солнце, пещеры и ручьи. И никаких городов.
4
Ван расстегнут кафтан. Ветерок хороший, почти не прошибает испарина. Телефон тут берет.
Он позвонил. Сразу ответил звонкий молодой голос.
— Стойте, где стоите! — прокричал он. – Я – вот!!
Он и вправду появился через секунду, голос этот, на вид лет семьдесят, или семьдесят пять, волосы без единой седины, крепкий, огромный, лицо красное, обветренное, мочки ушей – пунцовые, белки глаз сиреневые, как у годовалого младенца, только что не на полосатом тигре верхом старик этот высокий, а так – и впрямь похож на «вошедшего во дворец полукруглого бассейна», как сказал бы какой-нибудь старый поэт. Или художник. Долго трясет руку, в полупоклоне. Говорю вам, другая здесь вода. Как и жизнь. Верьте.
— Айяййяия, мой господин, — подбегая, начал голосить он. — Айяййяия, мой господин! Уж не знаю, как я благодарен – не достоин рядом стоять – как выразить. Только сливовым вином, только чаем! Кистью только! Только стихом!..Который день, господин, не спим, беда у нас, беда, большая! Я уж и «Канон Желтого Императора»(7) весь перелистал-перечёл, и в городе скупил пол аптеки, всё сам в ступе толок, и боярышник освящённый резал, и рыдал, и молился, и даже гневничал. Всё зря! Всё зря!
Он так и сказал – «гневничал», на горском диалекте, сейчас это слово почти не употребляют внизу. Звучит красиво, почти как тронный стиль. На диалекте.
Ладно, разберемся. Чемоданчик он взял, полный всего. Никогда не угадаешь, нужно всё брать. Но раз пришел – значит, его карма. Значит – ему. И надо работать. Нивелировать долги. Принижать.
— Что вы, что вы, — ласково, но трудно отстраняя старика, сказал он, — пойдемте, пойдемте, будем смотреть. Лучше, как говорится, один раз увидеть, чем сто раз услышать, уважаемый старший брат.
— А один раз сделать лучше, чем сто раз увидеть! — тут же подхватил крепкий старик. – Сразу видно — знатока. О, сразу видно. Пойдёмте, спаситель Вы мой дорогой, мигом будем. Мой дом – Ваш дом! Навсегда! А какие у нас горы – посмотрите! Про эти горы ещё при Западной Хань(8) оды слагали, Вас просто Небо послало, доктор дражайший вы мой! Пойдемте, пойдемте, нам на ту тропку и вон в тот лесок! А уж я вас там таким чаем напою, таким чайком, просто онемеете, ослепните, «Южный бессмертный водяной» называется, «Южный наркисс», вся усталость мигом пройдет, горло смажется, нос воспрянет, сознание промокнет, всю печаль снимет, как рукой, да что там, не рукой – небесной ручищей! В магазинах такого нету, никогда! Пойдемте-пойдемте, сюда, сюда, за мной! Сюда!
Вообще надо «нарцисс» говорить, но на местном они всегда говорят «наркисс», и вместо «спасибо» — «будьте здравы».
Старик бежал впереди Вана с такой скоростью, что Ван, при всех его утренних кроссах – по армейской спецназовской привычке – еле-еле шёл в спину, и странно, как бы он ни прибавлял темп, расстояние между ним и встретившим его стариком, хозяином, почему-то упорно не сокращалось, оставаясь ровно таким, как прежде. Казалось, старик не бежал, а летел. Прямо над изумрудной и похожей на старинные острые лезвия высокой горной травой. Видны были только подошвы крепких, тёмно-синих, сшитых в четыре шва, тяжёлых сапог старика с носками в форме когтей снежного льва. Голова его была повязана косынкой из сычуаньского шёлка, скрепленная на затылке блестящими медными кольцами. Такие уже двести лет, как не делают и не продают. Нигде.
5
— Хорошо, что Вы сейчас пришли, летом пришли — жарко!, — сказал старик, наливая большой дочерна загорелой рукой прозрачный дымчатый чай в тоненькие фарфоровые чашечки, на дне каждой из которых была видна на просвет длинноглазая красавица в высокой старой причёске с заколкой из кинжала – бабочки — и когда терпкий чай согревал столетнюю голубую чашечку — а происходило почти моментально — она сразу же оказывалась без всякой одежды. И красивее в десять тысяч раз. – Зимой тут у нас, знаете, часто гостит «Снежная королева». Наверное, слыхали.
Вот это да, подумал доктор Ван. Он поёжился. В комнате вдруг сразу стало необычно прохладно. Значит, правда это всё?
Старик словно прочитал его мысли. Улыбка расплылась на пунцовом от здорового горного воздуха лице.
В гостевой комнате старика-хозяина, кроме его собственного сиденья-лежака, покрытого бурыми, и, видимо, добытыми собственноручно, медвежьими шкурами, еще имелся древний очаг, положенный непонятно в годы правления какой императрицы, и рядом с которым были аккуратно сложены небольшие кожаные гостевые жёсткие прямоугольные подушки. Посреди комнаты стоял вырезанный из целого куска корня дерева большой чайный столик, примерно, чжана(9) в два, скупо инкрустированный золотом, серебром и перламутром, тоже почти чёрный от времени и впитанной им чайной заварки, и стулья, тоже деревянные и тоже из корней, однако, оттеком светлее, и потому производящие впечатление почти новых, хотя на самом деле, конечно, они были гораздо старше самого Вана и — наверное — даже хозяина-старика.. Что это за дерево, теперь сказать уже было трудно, но, и Ван был почти готов поставить на кон свой собственный чайный стол – дерева боддхи, растущего только в Индии и на юге Тибета, того самого, под которым сам Будда получил просветление и благодать.
К слову отметить, вдоль стены, примыкая к двери и смотря прямо на юг, шла широкая деревянная – и такая же тёмная от времени вбитая в камень панель, на которой были поставлены семь бронзовых, и тоже позеленевших от времени бронзовых чашечек с водой и длинная белая зажжённая свеча, дым от которой, перемешиваясь с дымом от постоянно подносившихся в этой комнате благовоний и затейливо с ним танцуя, поднимался вверх, играя с потоками сильного горного воздуха, входившего в комнату из полу открытой двери и оставляя на потолке чёткие — и символические — следы. По ним, подумал Ван, наверное можно считывать будущее. И, наверное, — прошлое.
В западном углу была большая, но уже не старинная, деревянная кадка с питьевой водой из колодца, а рядом с ней – ещё пара закрытых бочонков. Водой в этих местах запасались надолго и впрок, так как чай пить – любили, и с помощью её же гнали знаменитое на всю страну тангутское жёлток вино, обладающее ярко выраженным охлаждающими действием.
В народе было поверье, что оно лечит «сто болезней»(10).
К дальней от двери стене тоже были приделаны две длинные полки с лежащими на них небольшими, но многочисленными пучками каких-то редких горных трав, несколько пузатых тёмно-коричневых глиняных горшков с красной наклейкой в виде иероглифа «счастье» посередине, и всякая домашняя утварь — плошки, палочки для еды, какие-то оловянные миски и куча другой мелочи кухонного назначения. Видимо, сама кухня, где никто никогда не есть, а только готовят еду, была очень небольшой. Пол в комнате был каменный, плотный, положенный на века и блестящий от постоянного ухода. Комната была под стать старику.
— А то, — помолчав, сказал он. — В некоторых местах её еще называют «Снежной невестой». Мы здесь все знаем, что когда она появляется, потому что потом непременно будет большая снежная буря. Или много месячная вьюга. Все заметет, не откроешь ворота. И сам не выйдешь…Она вообще живет только там, где «много снегов». Как в стихотворении – «Где много снегов, появляется лють, и ныне, и присно, и в будущем будь…»Когда был ребенком, я видел ее сам.
Чёрные длинные волосы старика, казалось, начали развиваться в потоках воздуха, также оставляя на потолке чёткие пиктографические тени. Шелковый светло-сини боевой кафтан старика с отворотами из белоснежного шёлка также стал издавать тусклый блеск.
Доктору стало чуть не по себе, но невероятная сила воли, присущая ему с детства и впоследствии закалённая в службе в специальных правительственных войсках в режимных частях страны, быстро свела на нет весь уже начавший было подниматься животный инстинкт страха. Даже на ноль. Трус боится смерит много раз, а герой встречает – один.
В конце концов, у него тоже есть сильный фундамент – соблюдение всех врачебных обетов «человека в квадрате»,то есть, а миру, ибо круг есть гармония, а миру почти не достижимая, и потому – угловатый от наших страстей, квадрат — и клятва помощи освобождению всех живых существ — от болезней и хворей — которую он никогда не нарушал. Никогда. Так что, как сказали бы совершенномудрые, он всегда может рассчитывать на помощь своих защитных сил.
Старик тем временем повертел в руках большую чайную с изображенным на ней иероглифом «судьба» и втянул длинным сильным носом густой аромат жёлтых прозрачных листьев.
Да, подумал Ван, это сильно. Во всем Китае всего три дерева этого сорта, которые охраняются народной «армией восьми дорог», спецвойска, а остальное все – грубая подделка. Туда не подойти ни нем, ни ночью. Собирают и скручивают листы раз в год особо проверенные работницы – «доверенные лица» — самые некрасивые женщины, и всем за пятьдесят. Красивым – нельзя. Красивых можно купить, «красивая жена – чужая жена»…
Потом «Водяной бессмертный», так и не поступая на рынок, сразу отправляется в столицу, в Пекин в ЦК, немного оставляя для стола самих местных южных «земляных императоров», чиновников-секретарей. Чуть – для обкома, чуть – для горкома. А это – именно он, или я вообще ничего не понимаю в чае.
Но я понимаю. Первая стадия чайного пития– стадия «неведения», когда смотришь, и не понимаешь, что это такое, какие-то странные скрученные листы,вторая — «искусствоведческая», так пьют японцы и другие варвары, как будто смотришь в музее на картину, любуешься, оцениваешь, может быть, купишь, третья же наша, китайская, древняя, философская, когда о мире всё ясно и не надо выходить из дома, чтобы понять, «кто убил президента». Японцы же, и другие варвары тоже, не могут дойти до этой третьей, так как у них и чая хорошего-то нет, сплошная зелёная сечка. И варят долго, медленно, но плохо, не понимая чистого горного сердца, гордятся этим. Есть еще и четвертый уровень, но о нем всуе – нельзя.
Как этот сорт мог здесь оказаться? Воистину, «даже самый мудрый, встав утром с постели, не знает, что его вечером ждёт». В прошлом году в Гонконге в один из всемирно известных чайных центров поступила хорошая реплика этого чая, видимо, что-то там всё же отпочковали украдкой, всего десять или двенадцать лян(11), так он стоил где-то двадцать пять тысяч фунтов стерлингов. Такой чай, как говорится, «можно попробовать и спокойно уйти», да. Никак не ожидал. Всё – одни изменения.
— День тогда был ветреный, — старик покатал языком во рту, как будто к чему-то готовясь и посмотрел куда-то вверх поверх макушки доктора на потолок. – Тем утром отец мой, старый Фу, как всегда позавтракал, взял ружье и сказал, что пойдет на перевал Белой горы охотиться на диких свиней. Я, конечно, увязался следом, упросив взять меня с собой. В десять лет всюду хочешь быть с отцом. Отец был опытный охотник и знал, где искать выводок. Но в тот раз он не подстрелил никого – свиньи почему-то внезапно исчезли. Обычно они всегда где-нибудь роют снег, а тут, знаете, ни одной. И вот начиная с ледяных жёлтых сумерек вдруг пошла такая метель, что было стало трудно видеть даже собственные следы.
Отпив немного чая и подождав, пока горло схватит терпкий вяжущий настой, старик, теперь уже став совершенно серьёзным и спокойным, тихо продолжал.
— Когда мы дошли до Белой, была уже глубокая ночь. Но мы все еще могли кое-как идти вперед на юг по исходящему от снега белому матовому свету. Уже не помню, до какого места мы дошли, и тут отец мой, заметив впереди нас примерно метрах в двадцати какой-то силуэт, тут же остановился и замер, знаком приказав мне не двигаться. Крепко сжав мою руку, он шёпотом на ухо сказал мне, чтобы я ни в коем случае ни с кем не заговаривал ,ни на кого не смотрел и не отходил от него ни на шаг.
Через мгновение появившийся вдали силуэт приблизился, подойдя к нам почти вплотную. Я чуть не закричал от ужаса, закрыв лицо рукавом и, несмотря на приказ отца, украдкой посмотрев поверх локтя своего старенького мехового тулупа. В двух шагах слева он нас стояла фигура высокой женщины в полосатом красном свадебном халате. Лицо белое, как у мертвой, волосы почти до земли, брови густые, злые и очень красивые. Лицо тоже. Как с монастырских фресок совсем.
Она, не отрываясь, пристально смотрела на нас двоих. Потом, немного помедлив и чуть не задев нас округлым закутанным в королевский зимний халат плечом, быстрым шагом прошла нам за спину, ничего не сказав, и тут же скрылась в непроглядной снежной мгле. Завывала вьюга.
Когда мы вернулись домой, отогреваясь у буржуйки крепким красным улунским чаем, отец с все еще широко раскрытыми от застывшего в них ужаса глазами обмороженным голосом, словно всё ещё давясь на ветру той самой ледяной кашей, поведал мне, что это как раз и была — «Снежная королева». Если бы мы с ней заговорили, она вмиг отгрызла бы нам головы. И выпила всю кровь. А потом расщепила кости и высосала костный мозг. А трупы забросила высоко наверх, на деревья.
Вы не смейтесь, у нас тут каждую зиму на верхушках находят трупы животных. Без голов. Вот этой зимой, в двенадцатом месяце, черную пантеру нашли за околицей. Вернее, то, что от неё осталось. Видать, есть ей было нечего совсем, вот и вышла к Белой горе, такая вся отощавшая, худая. Наверное, зарычала на Неё, или прыгнула там. Или ещё что. А в соседнем уезде как откопают по весне насмерть замерзших людей, все тоже – без головы. Так и хоронят. Говорят – ее работа, хоть и не на деревьях совсем. Она и заморозить, между прочим может. Легко. Дунет – и ледяная кровь. Синяя. А потом толкнёт, легонько, голова отваливается сама.
Доктор Ван почти одеревенел. Та симпатичная крестьянка в лапшевной тоже была в полосатом красном кафтанчике. Почти невеста.
— Вообще, говорят, она хочет замуж выйти, не удаётся никак. Сама она – злой горный дух, но неумная. Она любит земных мужчин, и всё хочет жить с ними в деревне. Как встретит кого, прикидывается женщиной, красивой невероятно, потом соблазняет. Но наказывает – я мол, королева, Снежная, ты никому не говори. Проговоришься – убью. И не хочу, мол тебя убивать, но у меня клятва – Дьяволу гор, должна. Потом, как он вниз идёт, она тенью – за ним. И уже встречает его у околицы – в новом облике. Красивом. Красивая горянка. Спрашивает, мол, куда идёшь, кто будешь. И соблазняет второй раз – от, даже если есть семья. Обычно разводится, если нет, так и бегает к ней всё время, всю жизнь. Пока не пропадёт. Вот живёт она с ним, живёт. И любит его любит, в ночь по многу раз, продыху не даёт, а потом в какую-нибудь из ночей незадачливый мужчина тот её и проговаривается – мол, есть у меня один секрет, никому нельзя говорить. Она спрашивает, какой? Тот отвечает – я с самой Снежной королевой имел любовь. И этот момент она принимает прежний облик и отгрызает ему голову.
— Она, наверное, ищет того, кто никогда не проговорится? – предположил доктор Ван.
Старик усмехнулся.
— Точно. Но таких не было ещё – уж больно та вторая хороша. Как обнимет тебя, сразу хочешь всё рассказать.
Он помолчал и опять посмотрел наверх на потолок.
— Однако, иногда она приходит и в семьи, когда все спят – посмотреть на детей. Своих если нет. Тогда наутро на полу видны вмятины от её сапожков, белые, холодные. И семья тогда обычно съезжает. А в соседнем уезде в шестидесятых был вообще случай. Пара одна – пенсионеры-отставники, армейцы, те, что присоединяли Тибет, у них у всех пенсии персональные, большие, как-то в конце сентября – а в конце сентября у нас уже везде снег глубокий, всё-таки три с половиной тысячи метров, сидели у себя на веранде, перед сном. Старик трубку курил. Вдруг смотрят, к ним из леса девушка идёт, красивая. Высокая. Бледная только. Вот. Подошла, здоровается. Я, говорит, сирота из соседней деревни, в город иду, на ночь не приютите. Те обрадовались, как же нет, говорят, гость в дом – бог в дом, они христиане были, католики, из Шанхая, милости просим. Ну, покормили, а потом старик баню ей истопил, с дороги, согрейся, говорит, дочка, а вечером я к тебе загляну, расскажу про войну. «Дочка» на него игриво посмотрела, ушла. Старик ждёт час, второй – её нет. Взял он меч свой боевой, верный, годами проверенный, выдохнул из груди страх свой, и пошёл — туда. Смотрит, а баня вся остыла давным-давно, «дочки» не видно, а в кадке, что в центре стояла, где она мыться была должна, двадцать цзиней(12) чистого горного льда. И на потолке как будто огромным ногтём по инею нарисовано — иероглиф «Любовь». Как тушью, и надпись эта вдавлена в стену на целый цунь(13). Умер он тогда там в бане, инсульт. А старуха – к дочке уехала, навсегда. Прокляла, говорят, и старика, и горы эти, а может, заодно, и нас всех. А ещё бывает вот что — правда, не у нас – рожает кому-нибудь ребёнка. Кто-то с ней ночь проведёт, незабываемую, королевскую, и бежит скорее. А она колдовством своим потом всё опять так подстроит, что он снова в горы пойдёт, через несколько лет, и там его настигает, любя. Любит опять, а потом – ребёнка отдаёт. Мол, бери, ему в горах жить нельзя. А как его брать, он холодный-холодный, и наполовину только человеческий. И всё. Откажешься – голову отвалит, дитё подрастёт, всё одно загрызёт…Да что там она, жена, знаете, какая у меня первая была?
— Женился я рано, и рано овдовел, — продолжал старик. – Жена моя была странная. Она любила лизать мужчин. В юности многие мальчики заглядывались на нее, но никто не решался сделать ей предложение, более того, проведя с ней один или два близких вечера, все кавалеры бежали от нее без оглядки. Она начинала лизать их всех длинным своим языком, куда попадёт. И наверное, никто бы на ней так и не женился, если б не я. Уж больно красивая была. Однако, если честно, то меня никто не спрашивал особо, свадьба детей тогда у нас решалась властью родителей. Вот. Старик мой — отец Фу – дал её отцу согласие – он самый богатый у нас в деревне был, прям как императорский министр, и я пошел к ним в дом в примаки.
Да, подумал Ван. Хорошая усадьба у старика. Стильная. И скотный двор, и амбар, и конюшня – сделано всё на века. Еще двести лет простоит. Настоящий он, однако, помещик.
— И вот, когда мы вошли в «пещерную комнату», так на местном диалекте называют у нас брачные покои, она – суженая моя – представляете, она меня раздела и облизала всего, с головы до ног. Все места. Один раз. Не пропустила ни одной родинки, ничего. У меня чуть тогда сердце не остановилось. Язык у нее был шершавый и грубый, как у дикой кошки.
Да уж. Ван вспомнил, как один раз, огда он был ребенком, соседская кошка облизала ему ноги. Ощущение было крайне неприятное. Как напильником по коже, вжик-вжик. Еще как-то один раз в студенческие годы на складе общежития института традиционной китайской медицины он с друзьями ворошил какие-то старые чемоданы, пытаясь найти себе более или менее пригодную для первомайского пикника как раз в этих горах маоистскую кепку- зелёную с большой красной звездой — и из темной сырой щели в цементном полу вдруг внезапно выскочила маленькая серая мышь. По руке она моментально впрыгнула к нему под несвежую холостяцкую рубашку и побежала по телу, вверх и вниз, в пространстве между тканью и грудью, в поисках выхода начав испуганно и слепо метаться. Тогда он просто на миг ошалел, совершенно не зная, что предпринять, и в конце концов, выкинув, как в драке стенка на стенку вперёд ноги – наподобие ножниц – вытряхнул мышь наружу через, к счастью, широкую матросскую штанину. В страшных ощущения от касаний мыши и облизывания кошки и вправду было что-то потустороннее. Но вообще-то и обычные женщины могут время от времени лизнуть мужчину языком. Так что если мера соблюдена, с медицинской и психологической точки зрения ничего страшного в этом нет.
— Через два года после свадьбы она поехала в соседнюю деревню в гости к сестре, заразилась там от ее мужа «ядом сливы мумё», то есть, как вы городские говорите, сифилисом, конечно, из-за позора отказалась лечиться, и вскоре распалась на части, прогнила, и умерла той же весной. Свояк потом приходил, извинялся, а за что. Одна семья, сего уж. Значит, такая судьба.
Старик покатал в руках чашку, словно вспоминая какие-то свои любовные похождения.
— Знаете, — он заглянул доктору в глаза и, казалось, там были лица всех его прошлых, настоящих и будущих любовниц и жён, — у нее все внутренние органы превратились в кашу и прорвались — один в другой, кости тоже. Они были такие мягкие, как резина, мы даже боялись её повернуть, так и клали в гроб – одно сочленение за другим, по частям, плакали все – молодая была. А когда мы ее хоронили, одновременно завыли все волки в горах.
Да, Ван знал, что в некоторых сельских местностях здесь распространена любовные связи между членами семей, старший брат часто ходит в гости к жене младшего брата и прочее, и даже племянники с тётями и наоборот. В городе это называют сексуальной распущенностью. А что, в городе лучше? У них в больнице двое врачей вообще женами поменялись. Зав узнал, был большой скандал – выгнали всех. Так что это всё везде, КАК НИ НАЗОВИ. Впрочем, к древней культуре это имеет отношение самое косвенное. Эх, знать бы сегодняшнюю триграмму. Сейчас на дворе, к сожалению, не династия Тан(14). Ладно, прорвёмся, «среди четырёх морей все люди братья»(15). Ямынь(16) отсюда очень далеко.
Примечания:
(1) Шэнь-цзун – император, 1068 – 1086
(2) Ин-Цзун – годы правления, 1064-1068,
(3) ли – мера длины, равная 576
(4) чи – мера длины, равная 0.32 м
(5) цин — традиционный китайский инструмент, наподобие наших гуслей, хорошо играть трудно
(6) традиционная вывеска харчевни в старых отдалённых горных деревнях
(7) классический трактат по основам китайской, да и не только, медицины
(8) Западная Хань – старинная китайская династия, одна из начальных, до 206 — 8 г. н. э.
(9) чжан – мера длины, равная 3.2 м
(10)символическое выражение, означает «все»
(11)лян – мера веса, равная 37.3 г
(12)цзинь – мера веса, равная приблизительно 600 г.
(13)цунь – мера длины, равная 3.2 см
(14)Тан – самая великая династия Китая, при которой его культура достигла апогея своего расцвета, 618 — 907 г.
(15)метафора, соответствует – «все мы – китайцы»
(16)правительственное учреждение
«Книга Сумерек» была записана следующим образом — бродячие святые-аскеты в определённые свыше время и день садились лицом к восточной стороне определённой священной горы, и когда закат на западе освещал её склоны, входили в глубокую концентрацию. После этого солнце уходило, а огненные знаки ещё некоторое время оставались отражёнными.
Практикующие высшую йогу записывали эти символы на руке, потом расшифровывали, снова кодировали и прятали, тоже для определённого времени и дня; в огне, воде, земле, сердце. Тогда они, сходясь со всех концов Большой и Малой Азии, в тайных местах составляли общие манускрипты, иногда, пересекая границу, деля их на части и зашивая себе под кожу.
В настоящее время большая часть из них безвозвратно утеряна, ни одной цельной версии в мире нет. В России не переводилась.
(Продолжение следует)
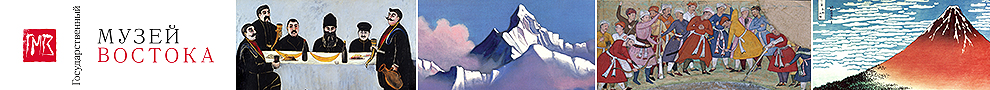

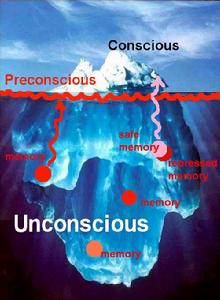
 Рубрики:
Рубрики: 