Александр Мартынов
«Неприкосновенный запас» 2001, №1(15)
Обычная, не парадная, китайская улица где-нибудь в провинции имеет гораздо более деловой вид, чем в российском городе. Кто-то везет на тачке уголь, кто-то в промасленном комбинезоне лежит под машиной, кто-то переносит большой противень с еще горячими булочками из пекарни в ларек, кто-то чистит бассейн с золотыми рыбками, кто-то выгуливает своих певчих птиц. И так — до бесконечности. Все заняты и все делают свое дело искусно, прилежно и очень спокойно.
Все заняты и спокойны, все — включая детей. Надо сказать, что именно спокойствие детей меня и поразило. «Почему ваши дети не капризничают и не плачут?» — спросил я у своего китайского коллеги. Тот насторожился, усмотрев, по всей видимости, в моем вопросе какой-то неприятный подтекст, и с некоторым вызовом спросил: «А почему они должны плакать?» Как духовный наследник Ф.М. Достоевского я мог бы привести несколько довольно веских причин, почему «дитё плачет», придя в этот мир. Но меня остановило искреннее изумление коллеги и пришедшее откуда-то из глубины сознания странное ощущение выросшей между нами стены, отделяющей одну духовную традицию от другой. По одну сторону стены люди давно уже уверовали в то, что жизнь есть «вечный бой», и искренне полагали, что «покой нам только снится», тогда как по другую — по всей видимости исходили из того, что покой естественен и первичен, мало того — что он является одной из главных жизненных ценностей. И одна из основных духовных традиций старого Китая — конфуцианская — настоятельно советовала придерживаться именно такой ориентации.
Почти две с половиной тысячи лет тому назад один из ближайших учеников Конфуция решил дать характеристику своему Учителю, которого он несомненно считал наибольшим совершенством «среди всех, когда-либо рождавшихся на земле». Ученик сказал: «Учитель был мягок, но строг; грозен, но не жесток; почтителен, но спокоен». Носителю европейской духовной традиции такая характеристика говорит очень мало. Понятно только, что она рисует нам «человека меры», т.е. нечто совершенно чуждое и христианской духовной традиции в целом, и особенно постренессансному периоду, идеалом которого было «дерзание». Но оказывается, идеалы могут быть разными. Для нашей темы в характеристике Конфуция особенно важным кажется последнее сопоставление — «почтителен, но спокоен». Умение сочетать в межличностном общении почтительность со спокойствием, т.е. подчиненное положение с подлинным внутренним покоем и достоинством, дается, как все понимают, отнюдь не легко и отнюдь не сразу. Смею предположить, что и к китайцам оно пришло не сразу, а в итоге длительного опыта общественно-политического строительства, опыта, который, как бы его ни оценивать, выводит Китай в наступившем столетии на неоспоримое первое место в международном сообществе.
За долгую китайскую историю категория «спокойствие» сумела приобрести богатое семантическое поле в различных сферах общественной жизни. Для нашей темы наиболее актуальными являются два значения. Первое — «спокойствие» как синоним счастья или, по крайней мере, благополучия, как оптимальное внутреннее состояние. И второе — «спокойствие» как вид государственного управления и как результат этого управления. Классическим примером первого значения может служить вошедшая в конфуцианский текст «Лунь юй» («Беседы и суждения») одно высказывание Конфуция в его беседе с учениками Янь Юанем и Цзы-лу об их жизненных идеалах. В этой беседе Конфуций так сформулировал свой идеал: «Я хотел бы, чтобы старые могли жить в покое, чтобы друзья доверяли друг другу и чтобы о малых детях было кому позаботиться». При желании, конечно, можно обвинить великого мудреца в некоторой приземленности его идеалов и посетовать на явный недостаток в нем политической фантазии, но если вспомнить о том, что в нашей стране нормальная пенсия до сих пор намного ниже прожиточного минимума, а беспризорные дети исчисляются десятками тысяч, то станет ясно, что с обвинениями стоит повременить, поскольку применительно к нашей российской действительности великий мудрец желал явно невыполнимого, или по крайней мере того, что мы еще не успели реализовать за тысячу лет своего исторического развития.
Продолжая разговор о важности в китайском мировоззрении категории «спокойствия», можно отметить и странное для европейского читателя постоянное сопряжение у китайских мыслителей «спокойствия» с гуманизмом, наличие которого, по нашим понятиям, предполагает если и не жертвенность, то уж во всяком случае, некую повышенную активность — деятельную гуманность. Совершенно по-другому рассуждали на этот счет китайцы. Конфуцию, например, спокойствие казалось и предпосылкой, и практикой гуманизма. Гуманность нельзя было обрести без внутреннего покоя, а обретение гуманности приводило к еще большему упрочению этого покоя: гуманный человек, как выражались китайские философы, «покоился в гуманности». В глазах Конфуция эти «покоящиеся в гуманизме» люди напоминали горы. Они были неколебимы, надежны и долговечны. Их внутренняя сущность приводила к тому, что и в эстетическом плане они отдавали предпочтение горам как наиболее точному воплощению своих жизненных идеалов.
В этом отношении «покоящиеся в гуманности» резко отличались от тех, кто был прежде всего сориентирован на знания. Духовный мир этих, по китайским понятиям, гораздо менее «совершенных людей» отличался динамизмом, а потому их эстетическим идеалом были не горы, а реки.
В философской мысли наиболее детальному анализу категорию «покоя» подверг древний даосский мыслитель Чжуан Чжоу (369—286 гг. до н. э.). Учитель Чжуан, или Чжуан-цзы, выделил в покое два главных аспекта — онтологический и гносеологический. В онтологическом плане Чжуан-цзы рассматривал покой как прямое выражение самой сущности мироздания, ибо Небо и Земля, по его представлениям, наглядно демонстрировали людям свою принципиальную неподвижность. Следовательно, размышлял Чжуан-цзы, чем больше человек уподобляется в своем духовном покое неподвижности обеих космических твердей, тем ближе он оказывается к наиболее совершенной форме бытия — к космосу.
В гносеологическом отношении Чжуан-цзы уподоблял покой гладкой поверхности спокойной воды, в которой отражается весь мир. Уподобление Небу и Земле, сопряженное с постижением всего сущего, должны были привести, по мысли великого даоса, к появлению в душе человека некой «небесной радости», радостного спокойствия, к которому должны были стремиться все, начиная с Сына Неба, т.е. императора, и кончая самым распоследним простолюдином.
В политическом сознании китайцев категория «спокойствия» утвердилась благодаря усилиям знаменитого императора Цинь Ши-хуана (259—210 гг. до н. э.). После завоевания шести древнекитайских государств Цинь Ши-хуан усиленно занялся «монументальной пропагандой», возводя на крайних рубежах своей империи огромные каменные стелы с пространными текстами, восхвалявшими его подвиг воссоединения всех китайских земель. Во время своего последнего, пятого, путешествия к границам империи он отправился на юг, взошел там на гору Гуйцзишань, связанную с именем легендарного усмирителя вод императора Юя, и воздвиг там в 210 г. до н. э. последнюю из своих стел, в тексте которой были такие выразительные строки:
Черноголовый народ блюдет свою чистоту,
Люди радуются в рамках законных установлений
И, радуясь, охраняют великое спокойствие.
Со времени Цинь Ши-хуана понятие «тай пин» («великое спокойствие») прочно вошло в политическое сознание китайцев. Так называли округа и уезды, годы правлений и ритуальные сооружения. Самый знаменитый в истории Китая столичный город Чанъань («Длительное спокойствие») явно нарекали так, ориентируясь на стабильность и прочность политического режима. Наступление эры «великого спокойствия» неоднократно обещали народу наиболее амбициозные из Сынов Неба. Их примеру следовали и руководители народных восстаний. За участниками одного из них, пожалуй, самого грозного за всю китайскую историю XIX столетия, так и закрепилось название «тайпины».
Мечта о «великом спокойствии» жива и поныне. Проходя лет пять тому назад мимо китайского католического храма, я увидел на ограде каллиграфическую надпись, где верующих поздравляли с наступающим праздником Рождества Христова и желали всему китайскому народу «великого спокойствия». Такая устойчивость политических идеалов не должна удивлять нас, поскольку китайская история — это особая история, и отношение к ней в Китае особое. Позволю себе привести несколько сугубо личных соображений об этих особенностях.
У меня создалось впечатление, что в Китае история не цепляется за современность, не тянется к ней через силу, стремясь сохранить в настоящем побольше отпечатков прошлого. Историей не размахивают там, как государственным штандартом, который обычно зачехлен, но торжественно разворачивается в особых случаях. Нет. История там спокойно (опять о покое!) пребывает в настоящем и никто не видит в этом ничего удивительного. По сути дела, возникает ощущение, что, начиная с глубочайшей древности (я говорю здесь, разумеется, о специфическом подходе к истории, а не о самом историческом процессе), с тех пор, как Небо отделилось от Земли, никаких радикальных изменений на этой земле не произошло. Китай как был Поднебесной, так ею и остался. Вот здесь, на этой самой «желтой земле» человек стал человеком разумным. Здесь же он впервые задумался о сложностях и проблемах человеческого общежития. Поэтому китайцы никогда не задавались вопросами «кто мы?» и «откуда мы пришли?» Они жили на этой земле всегда, со времен императоров Хуан-ди и Янь-ди, — явных культурных героев древней мифологии, — первый из которых олицетворял Землю, а второй — Огонь. Эти соправители поднебесного пространства приходились друг другу братьями. И с тех пор все дети Хуан-ди и Янь-ди, т.е. весь китайский народ, считают что «в пределах между четырьмя морями все люди — братья».
Прошлое живет здесь, на «желтой земле», не только в сознании людей, но наглядно, предметно. Вот гора, склоны которой распахал будущий образцовый император Шунь, вот колодец, из которого он брал воду. Вот мавзолей его преемника, императора Юя. Это — та же самая гора Гуйцзишань, на которой Цинь Ши-хуан установил свою пятую стелу. Когда смотришь на этот пейзаж, то, как сказал сунский поэт У Вэнь-ин (1200—1260), «дистанция в три тысячи лет исчезает, как улетающая птица». Говоря о трех тысячах, поэт придерживался традиционной хронологии, которая относит императора Юя к XXI в. до н. э. Историзированное мироощущение китайцев проявляет себя иногда в довольно неожиданных формах. Так, один из моих коллег, тот самый, что отвечал на вопрос о детях, в качестве имени имел топонимы, связанные с двумя наиболее прославленными династиями, что и непременно подчеркивал, представляясь. Приблизительным аналогом ему в нашей стране мог бы, пожалуй, быть некто, кто бы осмелился носить фамилию или взять себе псевдоним, скажем, Измаило-Наваринский или Бородино-Куликовский.
Ощутимое присутствие в китайском историческом сознании двух братьев — Хуан-ди и Янь-ди — сказалось и на специфическом подходе китайцев к такой деликатной и часто болезненной проблеме, как национальный вопрос, который ярко выявил и все особенности самоидентификации жителей Поднебесной. Общность и целостность обитателей Центральной равнины составляют вовсе не этнос и не политическое устройство, а цивилизация, уходящая в глубокую древность, или, как выражаются китайские историки, «цивилизация Цветущего Ся» («хуа ся вэньмин»). Цветущее Ся — это как раз то государство, которое основал уже упоминавшийся выше легендарный император Юй. Отличительными признаками этой цивилизации является строгая нормативность поведения людей, базирующаяся, прежде всего, на общности происхождения и культе предков. Упомянутые признаки сохраняют свою важность и до сих пор, обеспечивая общность жителей чайна-таунов, разбросанных по всему миру, с теми, кто по-прежнему живет на «желтой земле». Зарубежный китаец-турист приезжает на родину прежде всего для того, чтобы увидеть те места, где погребены его далекие предки.
Наиболее благоприятными условиями для «цивилизации Цветущего Ся» является политическое единство «цивилизованных» земель. Люди, придерживающиеся единых принципов, не должны быть разделены никакими политическими границами. Нормальное состояние цивилизации — политическое единство, ненормальное — политический раскол, к которому относятся как к временному отклонению от магистрального направления. Любопытно отметить, что в современной китайской историографии «великому единению» («да и тун») отводится исключительно важное место, что легко понять: с точки зрения, освященной трехтысячелетней традицией, множественная китайская государственность не имеет никакого смысла. Адресуется это, вне сомнения, тем, кто живет «за проливом».
«Цветущая цивилизация», предполагавшая как нечто само собой разумеющееся и политическое единство, не могла не столкнуться с проблемой других народов, живущих как внутри ее, так и за пределами. В традиционном Китае эти проблемы решались с изумительной легкостью. С учетом существования всех других народов мир обретал бинарную структуру «цивилизация—варварство» или, более конкретно, «Китай—периферия». Периферические народы, естественно, делились на две части. Первая — те, которые находились в пределах Китая или в зоне его политического влияния. Вторая — те, кто был вне досягаемости Срединной империи. Их называли «заморскими варварами» или «заморскими дьяволами». Первые большой проблемы для Китая не представляли. Им предлагали либо постепенно приобщаться к цивилизации, либо жить «согласно своим обычаям». На этой же базе основывается и современная китайская внутренняя национальная политика. Китайские власти охотно подчеркивают многонациональность своей страны.
«Малочисленные народы» пользуются административной автономией. Но национальные особенности перенесены, главным образом, в культурную сферу и с политикой просто не соприкасаются, поскольку никакого соединения этнической проблемы с политическими правами, на мой взгляд, в Китае не существует. Разумеется, есть и исключения. Это — мусульмане Синьцзяна и ламаиты Тибета. Но здесь разделение идет, скорее, по религиозному, чем по этническому принципу. Кроме того, эти конфликты не столь масштабны, чтобы деформировать всекитайское официальное политическое сознание. Такие явления последнего времени, как возврат себе потомками маньчжурской аристократии царствовавшей в Циньской империи фамилии Айсингиоро, надо отнести, скорее, к явлениям культурно-исторического порядка. Их можно сравнить, пожалуй, с самоорганизацией нашего казачества или дворянства.
Вторая часть «варварской» периферии — «заморская» — во второй половине XIX столетия заставила Китай трансформировать свою традиционную внешнеполитическую доктрину. В результате чего, как выражаются специалисты по внешнеполитической истории, «Китай вошел в семью наций». Однако это вовсе не означает, что Китай полностью расстался с самоощущением наследника наиболее совершенной цивилизации, цивилизации уникальной, универсальной и имеющей в отличие от других чисто светскую этическую основу. Многие специалисты по китайской культуре не сомневаются в том, что их духовное наследие в целом, но в первую очередь, конечно, конфуцианство, в не таком уж далеком будущем составят основу общечеловеческого мировоззрения. Как минимум, от них можно услышать, что история похожа на маятник. И если XX век был отмечен духовной доминантой Запада, то есть достаточные основания полагать, что в XXI-м Восток возьмет реванш.
Ярко выраженный историзм общественного сознания китайцев помог им, как мне представляется, гораздо лучше, чем это сделали, например, россияне, осознать неизбежность общественной иерархии, коренящейся в самих основах человеческого общежития, и выработать в себе более спокойное (как видите, опять о покое) отношение к своему реальному положению в обществе, к своей, как выражались китайские философы, общественной «доле». С предельной четкостью необходимость осознания своей «доли» ради сохранения нормальной жизни общества выражена у древнекитайского мыслителя Сюнь-цзы (313—238 гг. до н. э.) Человеческие существа, как считал Сюнь-цзы, превосходят своих животных собратьев лишь потому, что обладают способностью организовываться в общество. Как только они разъединяются, так сразу же теряют свое преимущество и обнаруживают, что «по своей силе они не могут состязаться с буйволом, а по своему бегу намного слабее коня». Именно для того, чтобы разъединений не происходило, человек должен в своем сознании и в своих действиях руководствоваться выпавшей ему «долей». Если этого не происходит, то общественные связи слабеют и утрачиваются. Сюнь-цзы представлял себе это таким образом: «Человеческие существа не могут не собираться вместе. Но если они соберутся и не разделятся, то между ними начнется борьба. Борьба приводит к хаосу, а хаос — к разъединению. Разъединение приводит к ослаблению, а ослабление чревато тем, что человек может потерять господство над вещами».
Разъяснения Сюнь-цзы не пропали даром, а долгая история наглядно продемонстрировала жителям Поднебесной, что нестабильное общество легко переходит в хаос, а хаос равноценен стихийным бедствиям, если не хуже их. Поэтому для всех и для себя самого лучше всего заниматься своим делом, спокойно и в тех рамках, той общественной «доли», которая отведена тебе твоей судьбой.
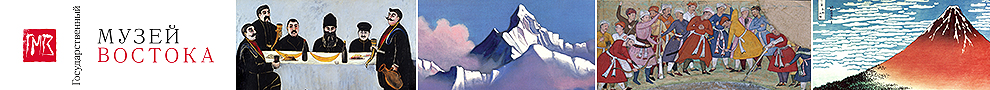


 Рубрики:
Рубрики:  Теги:
Теги: 